| 3 | 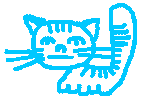 |
| [2] | [4] | Оглавление | На главную |
|
Наверно, мне все это просто пригрезилось. Есть некоторые признаки, по которым можно отличить сон от яви. Я вчера очень устал, меня утомил разговор с начальником; потом я долго бродил по городу, без мыслей, смотрел, как гаснет солнце, как вползает темнота в переулки, как на более людных улицах загораются огни... Но не это главное. Обычно я всегда помню мотивы своих поступков, в то время как в этот раз я не помнил, зачем пошел на чердак, зато отчетливо представлял себе, как воспринял эти следы. Мне представилось... Впрочем, для меня как материалиста такая концепция была смехотворной, и иначе как видением, бредом искаженной логики я ее назвать не мог. Кроме того, в памяти у меня абсолютно не отложилось, как я возвращался с чердака и куда поставил свечку. Тем не менее наутро я поднялся на чердак и внимательно все осмотрел при свете чердачных окошек. Никаких следов там не было, и пыли, как ни странно, было значительно меньше, чем мне помнилось с вечера, и это несмотря на то, что обычно при дневном свете она проступает даже там, где в темноте ее вообще не заметно.
Макс сидел на кухне в той же позе, что и вчера. Я даже вздрогнул, увидев его там. На приклееном к стене расчерченном листе бумаги рукой Марты были внесены цифры – кто сколько должен платить за электричесво, газ, отопление и телефон за предыдущий месяц. Я покачал головой, увидев, что опять не уложился в сумму, которую раз за разом сам себе назначал. Дом был старый, деревянный и служил когда-то гостиницей для персонала какого-то детского летнего лагеря. Зимой он отапливался находящейся по соседству котельной, вокруг которой вечно грязными кучами валялись шлак и уголь. Организация, которой принадлежал лагерь, обанкротилась или распалась; ее преемник попытался было создать здесь базу отдыха для сотрудников, однако здания обветшали, а ремонт сочли нецелесообразным. Тогда директор предприятия предложил поселиться здесь знакомому художнику, с тем чтобы тот одновременно выполнял обязанности сторожа, и забыл про находящиеся в его ведении несколько разрушающихся строений за городом. Так в доме появился Джерри. Однако очень скоро он понял, что одному ему не справиться с таким большим домом, и начал предлагать переехать сюда своим друзьям – по большей части таким же, как он, лишенным крова голодранцам. Пошли пьянки, а за ними – поджоги и прочие акции. Об этом прослышал директор, и за ближайшей к кухне дверью обосновалась Маргарет. Ее побаивались, хотя единственным ее действием по обеспечению порядка в доме стала декларация правил, включавших, в частности, запрет на домашних животных. Кто-то, теперь уже не помню кто, злобно оглядываясь, однажды прошептал мне, что когда-то давно ее покусала собака соседа, и с тех пор она ненавидит всякую живность. Не знаю, правда ли это; сам я спросить так и не решился, а она ничего такого не рассказывала. Как бы то ни было, безобразия с ее появлением прекратились, и дом зажил той жизнью, которая продолжалась и сейчас. Я услышал о нем от Доктора, которого иногда видел в Институте; после развода с женой я устал ночевать по квартирам да гаражам знакомых, и с радостью переселился к нему в комнату, а когда через пару месяцев освободилась одна из соседних, занял ее. К этому времени меня здесь считали уже своим. Чайник вскипел, и яйца в ковшике производили впечатление крутизны. Я присел на табуретку у своего стола, отрезал хлеб и посолил его. Макс закончил, наконец, высматривать что-то за окном, спрыгнул с подоконника, кивнул мне и включил магнитофон. Голос, хотя и не слишком правильный, сразу чем-то зацепил меня, а жесткий ритм взбодрил, казалось, лучше чашки самого крепкого кофе. Я сумасшедший из разряда бесшабашных, (*) Я оглашенный из неразглашенных, Я промышлял с баржи бузуками на башнях И состязался с донжуанами в донжонах. Из ряда вон нередко выходящий, Я приходил всегда невовремя, не к месту, И всех невест под звуки флейты уводящий, Я в сито снов им подсыпал сиесту. Мой боливар двоих не переварит, За перевалом будет передышка. И я закончу свой рассказ на том привале, Конечно, если не добьет меня одышка. Я не любитель слишком четких слов и линий, Гляжу, как в горне корчатся узоры. Я жгу хвосты, а ты, как младший Плиний, Твердишь, что в каждой книге есть резон. - Мне скучно, Холмс. - Что делать, Ватсон? Было такое впечатление, будто от слишком бысто сменяющейся, но очень завлекательной картинки: каждое слово пробуждало ассоциацию, ассоциации задерживались на мгновенье, подхлестываемые созвучиями, но тут же терялись, словно погребенные слоями новых кадров удивительной панорамы. Голос, казалось, исчез, и восприятие стало почти визуальным. Почти, повторяю, поскольку ритм – ритм остался и продолжал задавать темп смены кадров. Я вывел крыс отрогами Шварцвальда И выпил залпом небо над Берлином, И среди скал искал следы слепого скальда, Чей день кровав, а ночи пахнут гуталином. Я богоборчеством нарочно был испорчен, Чтоб в атеизме возродиться снова, И главный кормчий на краю мне рожи корчил И утверждал, что Бог, увы, не только слово. Я не ценитель откровенно пошлых жестов, Hо рукописи требуют огня. Я наблюдаю за горением с блаженством, Сжигая четверть жизни за полдня. ________________________________ (*) Стихи Константина Арбенина Я встряхнул головой. Все-таки за последнее время я стал непозволительно часто погружаться сам в себя. Я перебрал в уме мысли, которые посетили меня за последнюю неделю. Наиболее яркой, или так казалось в воспоминаниях, была мысль, возникшая во время беспорядочного блуждания по сумеречному городу: мысль о непередаваемости того, что я вижу перед собой. Несовершенство человеческого восприятия. Однако те составляющие, которые оно в себе содержит, делают его некоторым образом уникальным. Будь восприятие чуточку более совершенным, и невозможны стали бы музыка, живопись, даже, пожалуй, письменность не могла бы существовать, по крайней мере в том виде, в котором существует как вневременной объект. Хотя для меня сейчас все перечисленное представляет собой одно и то же, лишь технические средства, служащие для отображения узоров и переплетений мнемонических сущностей. Именно мнемонических, ибо то, что воспринимается непосредственно, а не восстановлено сознанием, ни разу за всю историю человечества не было отражено ни в одном из языков. Само несовершенство определяет возможность абстрагирования, позволяет создавать классы объектов, платоновские «идеи». Глядя на разноцветные городские фонари, на переливающиеся витрины и затворенные двери окон жилых домов, я думал о несопоставимости сигналов, которые достигают моего мозга, и их автоматически возникающей интерпретации. Правый глаз у меня видит хуже, чем левый, да и левый видит все отнюдь не идеально. Поэтому границы предметов расплываются, а на месте наиболее удаленных маячат лишь цветовые пятна с плавными переходами; каждый предмет, каждый огонек снабжен спутником, менее четким и смещенным чуть влево относительно оригинала; цвет для меня важнее границы, а расстояние играет куда более важную роль, чем для человека с «нормальным» зрением. Более того, значительную часть мгновенной картины занимают «мертвые зоны», чересчур яркие, либо чересчур темные, либо слишком контрастные. Тем не менее вряд ли кто-то может упрекнуть меня в неадекватности. А это означает, что получая внешнее впечатление, я тут же извлекаю его из потока времени и приобщаю к ряду других, или, точнее, делаю с него вербальный слепок, а само проявление реальности теряю. Так произошло и на сей раз: услышанная песня разделилась на слова, имеющие значение и звучание, ритм, тембр голоса. Снова я подумал, что слушаю только себя, только то, что отзывается во мне. Это было странно и в чем-то обидно, как невозможность сосредоточиться. Макс, прихватив магнитофон, давно ушел, а я все стоял в какой-то растерянности посреди кухни. Постепенно мысли ушли, осталость только состояние бездумного ступора. Я глядел на беленую стену перед собой, держа в руке ковшик, снятый с огня. Только когда руке стало невыносимо горячо, опомнился, подошел к раковине и пустил холодную воду. Время складывалось в узор, тот, который я вижу сейчас. Он – остаток моей памяти, рудимент ее тогдашнего присутствия. Что я мог об этом знать? Перетекая от узла к узлу, плутая в петлях и переплетениях бытия, я приближался к горлу воронки, меня затягивало в эпицентр событий, в то никуда, где рвался наружу Он. Но мне не дано было видеть ни причин, ни следствий, а сейчас их для меня и не существует, нити, из которых связывается узор, не маркированы концами и началами, они просто есть, и акценты значимости расставляет только то, что я называю взглядом. Моя тогдашняя углубленность в себя не была ни следствием происходящего, ни его причиной, она просто существовала и резонировала, толкая меня к моему нынешнему состоянию. Впрочем, я продолжаю себя обманывать. Конечно, каким-то необъяснимым чувством предопределенности, в той или иной мере присущей любому, я знал, что происходит. Это чувство было сродни тому, которое делает предсказуемым и, кажется, необязательным любой разговор, любое доказательство, любой поступок. Где-то внутри, но так глубоко, чтобы быть неосознанным, у меня всегда жило чувство, что те слова, которые говорятся людьми, говорятся лишь в силу желания упростить, формализовать общение. А по сути слова, которые дошли до адресата, означают то, что он, адресат, знал заранее, еще до того, как они были произнесены. Нет, мне не казалось, что разговоры в принципе бессмысленны. Парадокс заключается в той временной и причинно-следственной петле, обратным витком которой является смысл. Все сказано до того, как слова прозвучали, но если они не прозвучат в будущем, то не сказано ничего. Иначе говоря, разговор завершен уже в тот момент, когда начался, но при этом обязан пройти все свои уже завершившиеся стадии, для того, чтоб эта его завершенность состоялась. Несмотря на то, что я даже не догадывался о том, что происходит вокруг меня, каким-то образом я все же уже знал это, финал уже содержался в начале, но чтобы обрести по очереди все формы собственной незавершенности, должен был состояться последовательно, шаг за шагом. Не работалось. Вернувшись к себе, я потормошил листок с формулами, валявшимися на столе, и подошел к окну. На стекле вязко и удушающе лежала пыль, превращая солнечный свет, падающий под косым углом, в болезненную провокацию и пожирая цвет и объем близкого пейзажа. Странные следы, виденные мною во сне, возвращались вновь и вновь. Я словно отступал назад, чтобы еще раз подивиться тому, как здорово картина соответствует моему совершенно безумному, но чем-то для меня красивому объяснению, не объяснению даже, а построению, что ли: как некто, не умеющий ходить, топчется на месте, так и это существо, этот котенок, мог просто не разбираться в структуре, топологии пространства и из-за этого ее нарушать. Предположим, говорил я себе, что некто сталкивается с проблемой выбора, но не знает, что обязан выбрать что-то одно. Он может попасть в любую из трех комнат; но он не понимает, что ограничен в выборе, и выбирает все три сразу. Он играет, и ему, как ребенку, нравится подчиняться правилам, которые накладывает на него окружающий мир, только правила эти он интерпретирует по-своему. Мало того, может быть, он даже не понимает, что поставлен перед выбором, вовсе наоборот, ему кажется, что в ходе дальнейшего перемещения перед ним поставлена задача продолжать следовать всеми возможными путями, и он с блеском справляется с этой задачей. Я ощущал почти физическое удовольствие, представляя себе нетривиальность задачи, которая тем не менее может быть решена, и восторг по отношению к мирозданию, которое предоставляет такие задачи и возможность их решения. И следом за тем я снова и снова приходил к выводу, что все это было лишь увлекательным, неожиданным, интересным сном, ибо реалии не могут иметь такого красивого и в месте с тем апеллирующего к чуду объяснения. А следовательно, я имел дело с очередным погружением в себя, тем более странным и опасным, что несмотря на кажущуюся неопровержимость выводов, не мог поверить в то, что случившееся прошлым вечером на самом деле не имело к реальности никакого отношения. |