| 1 | 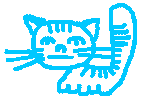 |
| [2] | Оглавление | На главную |
|
Они никогда не любили людей. Я имею в виду, по-настоящему, искренно, как собаки. Коты (а равно и кошки) терпели людей ради некоторого уюта, лицемерно подставляя шерстяные загривки узким ладоням женщин и грубым - мужчин. Сейчас, когда я почти что стал одним из тех, кто стал котом, точнее, стал почти котом, настолько же, насколько и я - им, хотя мне никогда не стать ИМ до конца, равно как и ему - котом, сейчас я вижу ситуацию несколько в ином свете, чем представлял ее себе раньше. Впрочем, это и не мудрено, поскольку сама ситуация, если так можно выразиться, несколько изменилась.
Кортасар заметил однажды, что кошки - это телефоны. Впервые наткнувшись на этот тезис, я принял его, честно говоря, за бред отравленного наркотиками сознания, если не за скучное бравирование интеллектуальной неординарностью. Точно так же сейчас мне ясно, что, случайно или нет, Кортасар не ошибся. Как, впрочем, не ошибся бы, заявив, что кошки - вентиляционные отверстия, или библиотеки, или рукоятки продольной подачи. С точки зрения общей функциональности кошки гораздо ближе к предметам и объектам, нежели к живым существам; именно поэтому в их среде и на их месте существо может чувствовать подлинную свободу и вместе с тем оставаться (или становиться) живым. Я чувствую, что эти рассуждения вызывают какое-то странное отторжение, как будто бы повисают в воздухе. Дело в том, что недавно (слово недавно тут означает, что так было не всегда) я начал видеть некоторые свои мысли так, как будто они не исчезают, а складываются в какой-то узор. Я фокусирую взгляд на его поверхности и нахожу некоторое весьма аллегорическое сходство этого своего взгляда с текстом, который прыгает от мысли к мысли, от ассоциации к ассоциации; поскольку же поверхность целиком мой взгляд не вмещает, то, как я вижу, представляет собой каждый раз фрагмент текста со множеством нитей, тянущихся куда-то вовне фрагмента; они-то и создают узор. Однако этот узор неоднороден и даже как бы имеет две стороны, одна из них видима мне при некотором усилии, другая же видима - или отражается - где-то еще. По-видимому, этот странный объект, который я называю узором, возник тогда же, когда началась эта история, когда часть мыслей в моем сознании – или не в моем – отделилась и стала существовать сама по себе, как сама по себе существует некоторое время голова гильотинированного... Та, вторая сторона - загадочна, если не уникальна. Мне кажется, или я догадываюсь, что, может быть, кто-то с той стороны пытается разглядеть тот же узор синхронно со мной, что означает существование либо двух связанных текстов, либо одного, если мое предположение о независимости моего взгляда и моей воли – лишь иллюзия. Все происходит так, как если бы некто, обладая грампластинкой с записью музыкальной темы, которая звучит прямо сейчас, и вооружившись лупой, чтобы хорошенько разглядеть все линии и заусенцы, по которым могла бы проскользить игла, пытался составить нотную запись. Именно с той стороны я ощущаю отторжение в тех местах, где меньше думаю о предметах и временной структуре событий, чем о своих ассоциациях. Это отторжение, точнее даже просто некоторая напряженность, как если пытаться поднять лоскут материи с налипшим на него куском льда или в набитом автобусе ощущать движение чужой ступни связанным с движением своей, заставляет меня снова и снова возвращаться к узору, и мне кажется, что узор этот странным образом меняется от возвращения к возвращению. Я не догадывался, что именно началось в тот осенний сумрачный день, когда в углу кухни, в пыли, впервые заметил отпечатки кошачьих лап. Отпечатки были явно старыми, кое-где их скрывала луковая шелуха, крошки хлеба и обрывки бумажной упаковки. Они принадлежали котенку или маленькой кошке, но что удивительно, было абсолютно непонятно, откуда и куда они вели. Я подумал тогда, что кто-то из новеньких тайно пронес в дом кошку и однажды ночью принес ее на кухню, где опустил ненадолго на пол. Старым облезлым веником собрав с пола мусор и оставив частые полосы в пыли, я скоро забыл об этом открытии. Какое мне дело до того, что кто-то нарушает режим дома! В конце концов, основное наше правило - не соваться в жизнь окружающих без особых на то причин или приглашения. Тем более что злополучный хозяин животного мог давно и благополучно покинуть эти стены, унеся с собой своего питомца. Да, собственно, и к правилам я особого пиетета не питал, хотя сам без необходимости старался не нарушать. Правил, тем более, было немного: кроме запрета на домашних животных да на курение в туалетах, жильцам вменялось не трогать забытых другими вещей, кроме вещей съехавших постояльцев, да не сушить после стирки белье и одежду в коридорах. Все остальное регулировалось теснотой и политикой невмешательства в частную жизнь. Тех, кто здесь приживался, эти правила устраивали; тех же, кто по какой-либо причине уходил, тут же забывали. Я, по-моему, на то время был единственным в доме человеком (звучит как воспоминание о чем-то невнятном, о прикосновении или звуке, да, как воспоминание о звуке во время пробуждения, когда уверен, что слышал его наяву), да, был почти единственным человеком, кто еще время от времени, скорее в силу привычки, чем из любви к чистоте или (Боже упаси) из-за угрызений совести, производил на кухне уборку. Хотя, конечно, то, что я делал, настоящей уборкой назвать трудно. Пока Марта не бросила учебу, она раз в неделю мыла полы мокрой тряпкой, по-моему, в то время кое-где на подоконниках еще стояли фиалки да бегонии, которые она не забывала поливать. Но потом Джерри неудачно вернулся с одной из вечеринок, Марта переехала к нему в комнату... Иногда, в основном воскресными утрами, она сидела на кухне в халате, курила. Я угощал ее кофе, а она рассказывала мне, как Джерри прячет от нее порошки и таблетки, а иногда бывает не в духе и ни слова не скажет за неделю, как он бросил курить, сам этого, похоже, не заметив, как подружка на работе считает ее дурой за то, что она отказалась по дешевке купить у ее знакомой сапожки, а сапожки были такого ужасного ярко-коричневого цвета, а денег все равно нет, да обувь у нее есть, вон на антресолях, рыжей тесемкой перехваченные, это ж ее, кстати, надо бы достать да касторовым маслицем освежить, так что она и не хотела покупать эти сапожки, а сама подружка недавно пришла накрашенная ужасной помадой, почти черной, а Джерри опять сломал стул, который она клеила всю прошлую субботу, а он просто сел и сломал, а вообще он славный, только совсем перестал рисовать и злится, когда ему на глаза попадаются ее карандаши, и тут у нее кончалась сигарета, и она долго мяла в пепельнице окурок, не сводя глаз с угла стола. Потом поднималась и смотрела в окно, долго, как будто ждала, что там появится нечто, соответствующее ее мыслям. Наблюдаю отсутствием действия за отпечатком своего тогда состояния, когда, оборачиваясь сквозь шум бьющей в жестяную раковину воды и встряхивая мокрыми руками, исполнялся сопричастностью к этой нескладной тихой девушке и к этому ее ожиданию, дополненному белым бликом на струящейся глади окна и ощущением простора за его гладью. Потом на кухне обязательно появлялся кто-то еще, и она уходила - стирать, гладить, а потом закрывала за собой дверь в комнату, белую, обклеенную выцветшими, некогда кричащими картинками, дверь, за которой Джерри пытался заставить себя преодолеть депрессию. Кроме меня, Марта разговаривала с Ольгой. Ольга все время куда-то бежала, спешила, опаздывала и торопилась, встряхивая челкой, которая регулярно, раз в две недели, меняла цвет. В пепельнице можно было легко различить их окурки: раздавленные - Марты и вечно докуренные до половины и плохо затушенные - Ольги. Сам вид этих окурков как-то логически проистекал из разницы в форме рук девушек. Я вижу это сейчас, но не понимал тогда, что эти руки и эти смятые белые цилиндры среди пепла составляют что-то вроде математической пропорции, где в другой части чертой дроби разделены тонкие, длинные пальцы одной и миниатюрные ладони-лодочки другой. Но Ольга все время улыбалась, хотя и пыталась говорить на серьезные темы, а Марта даже шутила грустно и как-то заискивающе. После того случая я не вспоминал о кошке недели две. За это время в доме, как всегда, произошли некоторые перестановки, к Донату въехал приятель, в противоположность хозяину худощавый, постоянно в темных очках, представившийся Георгом, однажды вечером Доктор, сидя перед печкой, в течение полутора часов жег какие-то бумаги, а Ольга стала заметно более нервной, хотя и пыталась казаться, наоборот, более спокойной. Теперь она нарочно опаздывала, крутилась, перед тем как выйти из дому, на кухне, что-то у кого-то по приятельски спрашивала и, по всей видимости, наслаждалась сознанием того, насколько она легка в общении. Выйдя же из дому, по-хозяйски распахивала правую дверь какой-то довольно представительной машины. Ее стали часто звать к телефону мужским голосом. Один раз за это время меня позвали к соседям в гости, случился день рождения у Швеции. Швеция восседал за столом, не поймешь, то ли пьяный уже, то ли рисующийся, покрикивал на гостей и улыбался. Рядом с ним сияла зеленым бантом и лакированными боками только что подаренная гитара. Хрусталь, невесть откуда взявшийся и как сохраненный, кочевал из темного нутра серванта в женские руки, а из них - посредством какого-то непонятного таинства симметрии и вкуса - на белую, в клеточку, скатерть. Я в своей драной фланелевой рубашке и шлепанцах поспешил занять место в уголке, да не тут-то было: рядом со мной на ручку кресла подсел Джерри и начал громовым голосом что-то рассказывать, с кем-то шутить, подкалывать девушек и ерзать внушительным задом. Пришлось ретироваться к себе и найти в шкафу чистую, хоть и затхлую сорочку. Заодно нашелся и галстук, но, повертев его в руках, я решил не выпендриваться. Когда я вернулся, пьянка была уже в разгаре. Перед Донатом стояли три рюмки, и под каждый тост под хохот присутствующих он все три, одну за другой, лихо опрокидывал с изнанки ладони. Швеция, поглядывая на жену, строил глазки Дарте, которая под его вниманием, подхихикивая, прижималась то к одному соседу, то к другому. Гвалт захватил меня, и я сам не заметил, как опьянел и втянулся в какой-то никчемный разговор вслед за Доктором, непривычно раскрасневшимся и напористым. Швеция, подхватив гитару, затянул «Синее море, только море за кормой», Дарта вторила, не вполне попадая в тон, но зато с экспрессией, слегка в данном случае неуместной. С сигаретами перешли на кухню, выглянула, близоруко щурясь в темноте коридора, Маргарет, не принявшая приглашения, а может, уже просто не приглашенная, что-то пробормотала и скрылась никем не отмеченной. Она тетка неплохая, я с ней пару раз разговаривал, не ругался, а именно разговаривал, так, ни о чем, о жизни, да уж больно замученная и потому на первый взгляд злая. Курили, сидя, кто на полу, кто на табуретках, Ольге Крис притащил стул, а Георг раскачивал, оседлав выщербленный стол, блестящими штиблетами. Разговор, как обычно бывает в таких случаях, сперва не шел, а потом разделился на группы. Мужики - спорт, выпивка, да кто чего может найти на работе. Женщины - одежда, магазины, рецепты всевозможных блюд. Я сидел в уголке, укрытый сизым дымом, стряхивал пепел на крышку от консервной банки и молчал. И вдруг - я приписал это действию алкоголя - сознание мое отодвинулось, и на его месте образовался даже не взгляд, а нечто, наблюдавшее за беседой, но как-то не так, как-то не оттуда, снизу и из другого ракурса. Сейчас я припоминаю то ощущение удивления, когда я понял, что этот другой использующий мои глаза наблюдатель предугадывает мысли и даже реплики присутствующих. Разговор, или, точнее, разговоры, предстали передо мной в виде схемы, диаграммы, на которой откладывались простейшие мотивы поведения. Я вдруг понял, что Марта искренне увлечена беседой, в то время как Ольга думает только о том, как выглядела бы со стороны, если бы сейчас на нее глядели ее знакомые извне дома, и потому часто попадает невпопад, хотя это и незаметно; что Дарта удручена чем-то, от нее исходит давление, которое сводит на нет всю ее показную бодрость; что Георг только и ждет, когда его пригласят принять участие в беседе, и теребит свои очки в готовности в любой момент их снять. Добродушный Донат злился, Жюли, жена Швеции, тоже, Макс серебрился презрением. Потом я вдруг почувствовал, как у меня встали дыбом волосы на затылке, причем в этот же момент все, видимо, почувствовали озноб, мне захотелось встряхнуть головой, и видение пропало. Продолжать вечеринку не хотелось, и, потушив сигарету и выкинув пепел в помойное ведро, я ушел к себе. В голове что-то шумело, я провалился в сон и не слышал, как мои соседи сперва веселились, а потом, ближе к утру, постепенно разошлись по комнатам. Утром на кухне я застал Швецию, хлещущего из-под крана холодную воду. Он что-то буркнул невнятно, одарив меня хмурым мутным взглядом, и снова приник к крану. Я остановился у окна, ожидая, когда же смогу наполнить чайник, и вдруг остолбенел. В углу, где я сидел вчера и курил, на полу стояло блюдечко с молоком. Швеция оторвался наконец от своего здорового занятия, проследил направление моего взгляда, еще раз что-то буркнул и пошлепал в коридор. Несколько секунд спустя хлопнула его дверь. Не то чтобы я не доверял ему, но был рад, что он, по всей видимости, не обратил внимания на это явное нарушение распорядка. Стараясь не смотреть в угол, я зажег газ, набрал воду в чайник, поставил его на огонь и, взглянув автоматически на часы, пошел к себе. Через пять с половиной минут, когда я вернулся, блюдечка в углу уже не было. |